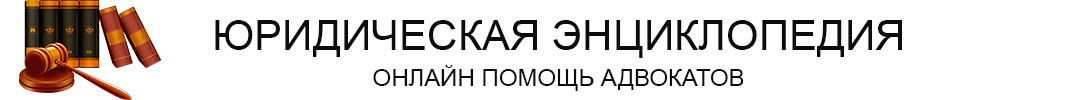В судах воровство в армии одна палка шагистика кто сказал
Обновлено: 28.04.2024
Ницшевский Заратустра говорит ученикам своим: «Дабы никто не мог заглянуть в мою глубину и узнать мою последнюю волю, я изобрел себе долгое и светлое молчание. Много умных людей видал я: они закрывали свои лица и мутили свою воду, дабы ничей взгляд не мог насквозь увидеть их. Но к ним приходили более умные и недоверчивые разгадчики и вылавливали у них наилучше скрытую рыбу… Светлые, смелые, прозрачные люди – самые умные молчальники: ибо так глубоко дно их, что и самая прозрачная вода не выдает их». Сам Ницше не был таким умным молчальником: он мутил свою воду; но к гр. Толстому эти слова могут быть применены целиком. Он – светел, прозрачен, смел, – кто может думать, что нужно еще спускаться на дно его души, и что на этом дне живут чудовища? Он и сам любит называть свою жизнь «исключительно счастливой в мирском смысле». И когда в молодости читаешь его произведения, с какой радостью глядишь на эту светлую, ясную, прозрачную глубину! Кажется, что гр. Толстой все знает и понимает, кажется, что смущающая людей загадочность и противоречивость жизни – только соблазнительная приманка для человека, а непрочность всего существующего – только обманчивая видимость. Непрочность – для гр. Толстого нет такого слова. Вспомните, например, эпилог к «Войне и миру». Разве есть такие сомнения, которые не были бы разрешены в уютной столовой Николая Ростова, за чайным столом, собравшимися вместе довольными и радостными членами большой семьи? Правда, Пьер привез из Петербурга горсточку идей, грозящих как будто нарушить мирное благоденствие обитателей Лысых гор. Но гр. Толстой ведь отказался писать «Декабристов», а написал «Войну и мир». Декабристы, вслед за Андреем Болконским, выпровожены в область Ding an sich, куда, по теории Канта, и полагается направлять все антиномии человеческого сознания. А для жизни оставлены априорные суждения, выразителем которых избирается наиболее подходящий для таких дел человек – Николай Ростов. Угодно ли вам послушать язык априорности? Пьер Безухов, шамкая и шепелявя, начинает рассказывать что-то о своих петербургских сношениях. «В судах воровство, в армии – одна палка: шагистика, поселение – мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно – то губят! Все видят, что это не может так долго идти. Все слишком натянуто – и скоро лопнет, – говорил Пьер (как с тех пор, как существуют правительства, вглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди)». Это, вы понимаете, речи скептицизма Юма. Дайте им простор, – и все усилия, потраченные на «Войну и мир», окажутся потраченными даром. Необходимо, значит, изменить направление разговора. И вот, слово предоставляется Николаю Ростову. В качестве человека априорного он доказательств не любит и уважает лишь всеобщность и необходимость. Он так прямо и заявляет Пьеру: «Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно; я этого не вижу… И вели мне Аракчеев идти на вас (т. е. на Пьера с его петербургскими друзьями) с эскадроном и рубить – ни на секунду не задумаюсь и пойду»… Не правда ли, чудесно сказано?! Да разве, в самом деле, Пьеру возможно что-нибудь доказать? И затем, разве Кант не прав, разве нам можно существовать без априорных суждений, т. е. без таких, которые поддерживаются не учеными соображениями, всегда противоречивыми и неустойчивыми, а силой, никогда себе не изменяющей, иначе говоря – необходимостью? Граф Толстой незадолго до «Войны и мира» проделал целый ряд опытов с «совестью», не кантово-ростовской совестью, имеющей принципы, а со своей собственной совестью гениального человека. Вы знаете, что из этого вышло: не только априорных – почти никаких суждений не осталось. А как жить человеку без суждений, без убеждений? Великий писатель земли русской увидел, наконец, как рождаются убеждения и понял, какое великое преимущество имеют Ростовы пред Болконским. Болконского и жить оставить нельзя. Куда с ним денешься? А Ростов – хоть сто лет жизни ему дай, не заведет тебя на неизвестный, ложный путь («неизвестный» и «ложный» в данном случае, как известно, синонимы). И посмотрите, какое глубокое уважение питает гр. Толстой к Ростову. «Долго, – рассказывает он нам, – после его (Николая) смерти в народе хранилась набожная память о его управлении». Набожная память! Долго хранилась! Пересмотрите все, что писал гр. Толстой: ни об одном из своих героев он не говорил с таким чувством благодарности и умиления. Но за что же? – спросите вы. Чем заслужил этот обыкновенный человек такую признательность? А вот именно своей обыкновенностью: Ростов знал, как жить, и был потому всегда тверд. Во всю же свою писательскую деятельность гр. Толстой ничего так не ценил, как определенное знание и твердость, ибо у себя не находил ни того, ни другого. Он мог только подражать Ростову и, само собою разумеется, был принужден расточать хвалу своему высокому образцу. Эта «набожная память», как и весь эпилог к «Войне и миру» – дерзкий, сознательно дерзкий вызов, брошенный гр. Толстым всем образованным людям, всей, если хотите, совести нашего времени. И именно сознательный вызов: гр. Толстой понимал, слишком хорошо понимал, чт? он делает. «Я преклоняюсь пред Ростовым, а не пред Пушкиным или Шекспиром, и открыто всем заявляю это» – вот смысл эпилога к «Войне и миру». Заметьте, что в эпоху яснополянских журналов и первых своих литературно-публицистических опытов, когда тоже отрицались Шекспир и Пушкин, им, по крайней мере, противоставлялся не интеллигентный же помещик, а весь русский народ. Это еще не казалось столь странным. Русский народ все же большая «идея», ковер-самолет, на котором не один читатель или писатель совершал свое заоблачное путешествие. Но Ростов – ведь в нем ничего даже похожего на идею нет; это – чистейшая материя, косность, неподвижность. И к нему решиться применить эпитет «набожная память»! Как только после этого могли поверить, что гр. Толстой наивен, невинен, что его глубина прозрачна и его дно видно?! Видно, у Достоевского чутье было лучше, чем у других читателей гр. Толстого: «Анна Каренина» – совсем не невинная вещь…
После спора Пьера с Николаем, гр. Толстой вводит нас еще на несколько минут в спальни своих счастливых пар. В спальнях разговоры у гр. Толстого ведутся совсем на особый манер. Супруги так хорошо сжились меж собой, так близки, так связаны, что понимают один другого с полуслова, с намека. Там только улавливается основная мелодия семейного счастья: «Wir treiben jezt Familiengl?ck, was h?her lockt, das ist vom ?bel». Ho гр. Толстой опять-таки чуть ли не набожно рисует всю эту идиллию. «Пусть себе Шекспиры изображают трагедию – я же ничего подобного не хочу знать» – может быть, у него была такая мысль, когда он провожал в спальни свои пары. Но открыто он этого не сказал. Открыто устраивается торжественный апофеоз этому семейному счастью, признающему, что все «более высокое» происходит от дьявола. Впрочем, одна капля иронии есть в этом апофеозе – гр. Толстой не удержался. Но увы! Ирония относится не к Ростову, а к Пьеру, и не по поводу его семейных, домашних дел, а по поводу петербургских замыслов. Но и то ирония чуть-чуть заметна: всего два раза, словно невзначай, брошено по адресу Пьера словечко «самодовольство»…
В спальне же Ростовых – все чудесно. Графиня Марья дает читать мужу благочестивую литературу своего сочинения, и муж, читая дневник жены, сознает свое ничтожество пред ее душевной высотой. Сверх того, графиня Марья по поводу спора Пьера с Николаем предлагает в защиту априорности новый аргумент, который с удовольствием принимается Николаем, несмотря на то, что, собственно говоря, ему никакие аргументы не нужны и что именно в этом его высшее качество… Графиня Марья говорит: «По-моему, ты совершенно прав. Я так и сказала Наташе. Пьер говорит, что все страдают, мучаются, развращаются и что наш долг – помочь бедным. Разумеется (это „разумеется“ великолепно!), он прав, – говорила княжна Марья; но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам Бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, а не детьми». Вот как пишется история! Но это еще не все. Априорный человек, ухватившись за аргумент графини Марьи, сразу от детей переходит к разговорам о делах, имении, выкупах, платежах, о своем богатстве. Графине Марье такой переход показался неестественно резким: «ей так хотелось сказать ему (мужу), что не о едином хлебе будет сыт человек, что он слишком много приписывает важности этим делам (подчеркнуто у гр. Толстого), но она знала, что этого говорить не нужно и бесполезно. Она только взяла его за руку и поцеловала. Он принял этот жест за одобрение и подтверждение его мыслей»… Не правда ли, какая чудесная дерзость?! Укажите, кто из писателей, кроме гр. Толстого, смел так открыто играть в такую опасную игру! Графиня Марья, «всегда стремившаяся к бесконечному, вечному и совершенному», как ни в чем не бывало соглашается на самое крайнее лицемерие, как только инстинкт подсказывает ей, что грозит опасность прочности ее «духовного» союза с мужем. Ведь еще шаг, и лицемерие возводится в закон, в закон – страшно сказать – совести. Если хотите – никакого шага больше не нужно, он уже сделан в словах графини Марьи. Но, что любопытнее всего, гр. Толстой и виду не подает, что понимает, через какую пропасть он только что перескочил. Он по обыкновению ясен, светел, прозрачен.
Какую бы «психологию» сделал из этого Достоевский! Но гр. Толстой уже искушен. Он знает, что каждый раз, когда приближается антиномия, нужно делать святое, невинное, детски простодушное лицо, – иначе прощай навсегда всякие априори, всеобщность, необходимость, прочность, почва, устои. И нет равного ему в этом дипломатическом искусстве. Тут, может быть, сказывается «порода», происхождение – десяток поколений «служивших» предков, всегда нуждавшихся в парадном лице… Гр. Толстой таким способом достигает двойной цели: он сказал «правду» – и правда не подорвала жизни. До гр. Толстого идеализм не знал таких тонких приемов. Ему для своих эффектов всегда требовалась и грубая ложь, и «горячее» чувство, и красноречие, и мишура, и даже лубочные краски.
Если бы Достоевский вспомнил эпилог к «Войне и миру», он бы понял, что сердиться на Левина за его безучастное отношение к бедствиям славян есть анахронизм. Сердиться нужно было раньше – за «Войну и мир». Если же «Война и мир» принята, то приходится принять и «Анну Каренину», целиком, без всяких ограничений, с последней частью. Ведь в сущности и славянские дела – большая путаница. В них скрывается одна из антиномий – убивать или не убивать. Так отчего бы не отнести их к Ding an sich? Отчего бы не предоставить их, как предлагает Левин, в исключительное ведение правительства, памятуя пример предков, передавших все дела правления нарочито призванным заморским князьям?
Вся деятельность гр. Толстого, включая его последние философско-публицистические статьи и даже роман «Воскресение» (одно из немногих, почти единственное относительно неудачное его произведение – в нем гр. Толстой словно собирает крохи от своего собственного, когда-то роскошного стола), не выходит за пределы указанной мною задачи. Он во что бы то ни стало хочет приручить тех бешеных зверей, которые называются иностранными словами «скептицизм» и «пессимизм». Он не скрывает их от наших глаз, но держит в крепчайших и надежнейших на вид клетках, так что и самый недоверчивый человек начинает их считать не опасными, навеки усмиренными. Последняя формула гр. Толстого, которой подводится итог всей его неустанной многолетней борьбе, и которую он особенно торжественно возвестил в своей книге «Что такое искусство», гласит: «добро, братская любовь – есть Бог». Говорить о ней здесь я не буду, так как имел случай в другом месте подробно объяснить ее смысл и значение.[21] Я хочу только напомнить, что и это «убеждение», которое, по настойчивому уверению гр. Толстого, имеет своими родителями чистейший разум и правдивую совесть, совсем не такого уж благородного происхождения. Его породил все тот же страх пред Ding an sich, все то же стихийное почти стремление «назад к Канту» (как еще недавно восклицали хором представители новейшей немецкой философии), в силу которых выпроваживался князь Андрей, возвеличивался Ростов, поэтизировалась княжна Марья и т. д. Оттого-то, как мы увидим ниже, положение, представляемое гр. Толстым как величайшая и возвышеннейшая истина, могло казаться кощунственной, безобразной и отвратительной ложью Достоевскому.
Вот что, – начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как он говорил. – Вот что. Положение в Петербурге вот какое: государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди «. », которые рубят и душат все сплеча.
– Ну, и все гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, – мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет, – говорил Пьер (как, с тех пор как существует правительство, вглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди). – Я одно говорил им в Петербурге.
В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно; он подошел к нему.
– Отчего? Оставь его, – сказал Пьер, взяв за руку Николая, и продолжал: – Этого мало, и я им говорю: теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неминуемого переворота, – надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняют женщины, другого почести, третьего тщеславие, деньги – и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается.
Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей, не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего мнения.
– Я вот что тебе скажу, – проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее. – Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу: что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить – ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди как хочешь.
Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами.
– Дядя Пьер. вы. нет. Ежели бы папа был жив. он бы согласен был с вами? – спросил он.
Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время его разговора, и, вспомнив все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.
– Я думаю, что да, – сказал он неохотно и вышел из кабинета.
За ужином разговор не шел более о политике и обществах, а, напротив, затеялся самый приятный для Николая, – о воспоминаниях 12-го года, на который вызвал Денисов и в котором Пьер был особенно мил и забавен. И родные разошлись в самых дружеских отношениях.
Когда после ужина Николай, раздевшись в кабинете и отдав приказания заждавшемуся управляющему, пришел в халате в спальню, он застал жену еще за письменным столом: она что-то писала.
Мари вела дневник, но боясь неодобрения мужа, никогда не говорила ему об этом.
Она бы желала скрыть от него то, что она писала, но вместе с тем и рада была тому, что он застал ее и что надо сказать ему.
– Это дневник, Nicolas, – сказала она, подавая ему синенькую тетрадку, исписанную ее твердым, крупным почерком.
– Дневник. – с оттенком насмешливости сказал Николай и взял в руки тетрадку.
Николай взглянул в лучистые глаза, смотревшие на него, и продолжал перелистывать и читать. В дневнике записывалось все то из детской жизни, что для матери казалось замечательным, выражая характеры детей или наводя на общие мысли о приемах воспитания. Это были большей частью самые ничтожные мелочи; но они не казались таковыми ни матери, ни отцу, когда он теперь в первый раз читал этот детский дневник.
«Может быть, не нужно было делать это так педантически; может быть, и вовсе не нужно», – думал Николай; но это неустанное, вечное душевное напряжение, имеющее целью только нравственное добро детей, – восхищало его. Ежели бы Николай мог сознавать свое чувство, то он нашел бы, что главное основание его твердой, нежной и гордой любви к жене имело основанием всегда это чувство удивления перед ее душевностью, перед тем, почти недоступным для Николая, возвышенным, нравственным миром, в котором всегда жила его жена.
Он гордился тем, что она так умна и хороша, сознавая свое ничтожество перед нею в мире духовном, и тем более радовался тому, что она с своей душой не только принадлежала ему, но составляла часть его самого…
Душа графини Марьи всегда стремилась к бесконечному, вечному и совершенному и потому никогда не могла быть покойна. На лице ее выступило строгое выражение затаенного высокого страдания души, тяготящейся телом. Николай посмотрел на нее.
«Боже мой! что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее такое лицо», – подумал он, и, став перед образом, он стал читать вечерние молитвы.
***
Наташа, оставшись с мужем одна, тоже разговаривала так, как только разговаривают жена с мужем, то есть с необыкновенной ясностью и быстротой познавая и сообщая мысли друг друга, путем противным всем правилам логики, без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом.
С того самого времени, как они остались одни и Наташа с широко раскрытыми, счастливыми глазами подошла к нему тихо и вдруг, быстро схватив его за голову, прижала ее к своей груди и сказала: «Теперь весь, весь мой, мой! Не уйдешь!» – с этого времени начался этот разговор, противный всем законам логики, противный уже потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах.
Наташа рассказывала Пьеру о житье-бытье брата, о том, как она страдала, а не жила без мужа, и о том, как она еще больше полюбила Мари, и о том, как Мари во всех отношениях лучше ее. Говоря это, Наташа призналась искренно в том, что она видит превосходство Мари, но вместе с тем она, говоря это, требовала от Пьера, чтобы он все-таки предпочитал ее Мари и всем другим женщинам, и теперь вновь, особенно после того, как он видел много женщин в Петербурге, повторил бы ей это.
Вот что, – начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как он говорил. – Вот что. Положение в Петербурге вот какое: государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди «. », которые рубят и душат все сплеча.
– Ну, и все гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, – мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет, – говорил Пьер (как, с тех пор как существует правительство, вглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди). – Я одно говорил им в Петербурге.
В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно; он подошел к нему.
– Отчего? Оставь его, – сказал Пьер, взяв за руку Николая, и продолжал: – Этого мало, и я им говорю: теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неминуемого переворота, – надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняют женщины, другого почести, третьего тщеславие, деньги – и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается.
Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей, не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего мнения.
– Я вот что тебе скажу, – проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее. – Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу: что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить – ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди как хочешь.
Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами.
– Дядя Пьер. вы. нет. Ежели бы папа был жив. он бы согласен был с вами? – спросил он.
Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время его разговора, и, вспомнив все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.
– Я думаю, что да, – сказал он неохотно и вышел из кабинета.
За ужином разговор не шел более о политике и обществах, а, напротив, затеялся самый приятный для Николая, – о воспоминаниях 12-го года, на который вызвал Денисов и в котором Пьер был особенно мил и забавен. И родные разошлись в самых дружеских отношениях.
Когда после ужина Николай, раздевшись в кабинете и отдав приказания заждавшемуся управляющему, пришел в халате в спальню, он застал жену еще за письменным столом: она что-то писала.
Мари вела дневник, но боясь неодобрения мужа, никогда не говорила ему об этом.
Она бы желала скрыть от него то, что она писала, но вместе с тем и рада была тому, что он застал ее и что надо сказать ему.
– Это дневник, Nicolas, – сказала она, подавая ему синенькую тетрадку, исписанную ее твердым, крупным почерком.
– Дневник. – с оттенком насмешливости сказал Николай и взял в руки тетрадку.
Николай взглянул в лучистые глаза, смотревшие на него, и продолжал перелистывать и читать. В дневнике записывалось все то из детской жизни, что для матери казалось замечательным, выражая характеры детей или наводя на общие мысли о приемах воспитания. Это были большей частью самые ничтожные мелочи; но они не казались таковыми ни матери, ни отцу, когда он теперь в первый раз читал этот детский дневник.
«Может быть, не нужно было делать это так педантически; может быть, и вовсе не нужно», – думал Николай; но это неустанное, вечное душевное напряжение, имеющее целью только нравственное добро детей, – восхищало его. Ежели бы Николай мог сознавать свое чувство, то он нашел бы, что главное основание его твердой, нежной и гордой любви к жене имело основанием всегда это чувство удивления перед ее душевностью, перед тем, почти недоступным для Николая, возвышенным, нравственным миром, в котором всегда жила его жена.
Он гордился тем, что она так умна и хороша, сознавая свое ничтожество перед нею в мире духовном, и тем более радовался тому, что она с своей душой не только принадлежала ему, но составляла часть его самого…
Душа графини Марьи всегда стремилась к бесконечному, вечному и совершенному и потому никогда не могла быть покойна. На лице ее выступило строгое выражение затаенного высокого страдания души, тяготящейся телом. Николай посмотрел на нее.
«Боже мой! что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее такое лицо», – подумал он, и, став перед образом, он стал читать вечерние молитвы.
ПУТЬ ИСКАНИЙ КНЯЗЯ АНДРЕЯ.

Мы знакомимся с Андреем Болконским, когда он собирается на войну. Пьеру он объясняет свое решение желанием вырваться из сферы надоевшей ему светской и семейной жизни. Но есть и другие, тайные причины, о которых князь Андрей не говорит никому: он мечтает о славе, подобной наполеоновской, мечтает совершить подвиг. Конечно, эти мечты не имеют ничего общего с карьеристскими планами Друбецкого или Берга. Ведь что же слава? - говорит князь Андрей.- Та же любовь к другим, желание сделать для них что-нибудь, желание их похвалы.
Эти мечты особенно волнуют Болконского перед Аустерлицким сражением. Но Андрея ждет разочарование: стремление к славе приводит его к глубокому духовному кризису. Вспомним сцену боя.
Со знаменем в руках, увлекая за собой солдат, Болконский рвется навстречу своей славе. Толстой неоднократно употребляет слово бежать и ряд других глаголов, воспроизводящих быстроту, лихорадочную напряженность событий: схватил, обогнал, дрались, падали. Но вдруг словно все исчезло куда-то. Над ним не было ничего уже, кроме неба - высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Смертельной горячке боя противопоставлены тишина, спокойствие, вечный мир природы. Замедляется и ритм фразы (замедляет его обилие определений-эпитетов, а также повторы слов, особенно важных: небо, высокое).
Перед нами характерное для Толстого изображение природы: она олицетворяет высшие нравственные начала, то лучшее, что есть в жизни людей.
Толстой воспроизводит не столько зрительный образ неба, сколько то впечатление, тот строй мыслей, который оно вызывает (отсюда эпитеты высокое справедливое и доброе небо).
Картина природы включается во внутренний монолог князя Андрея: Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал. не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист,- совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видел прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба.
Так по-новому открылась для князя Андрея жизнь. Он понял суетность своих честолюбивых мечтаний, понял, что в жизни есть нечто гораздо более значительное и вечное, чем война и слава Наполеона. Это нечто- естественная жизнь природы и человека. Еще при встрече с Тушиным поколебались представления Болконского о героях-завоевателях. Мечты о славе окончательно развеялись на Аустерлицком поле. Небо Аустерлица становится для князя Андрея символом нового, высокого понимания жизни, раскрывшихся перед ним бесконечных и светлых горизонтов. Этот символ проходит через всю его жизнь.
Дальнейшие события - появление ребенка, смерть жены - потрясли князя Андрея. Разочаровавшись в прежних своих стремлениях и идеалах, пережив горе и раскаяние, он приходит к выводу, что жизнь в ее простых проявлениях, жизнь для себя и для своих близких- то единственное, что ему остается. Вспомним сцену у кроватки больного Николушки. Вместе с сестрой князь Андрей долго стоит в матовом свете полога, как бы не желая расстаться с этим миром, в котором они втроем были отделены от всего света. Да, это одно, что осталось мне теперь,- сказал он со вздохом.
Итак, жизненный путь определен? Но вряд ли деятельная, кипучая натура Болконского может довольствоваться столь узким кругом. Недаром его взгляд был потухший, мертвый и даже в улыбке выражалась сосредоточенность и убитость.
Толстой показывает, как медленно возвращается его герой к жизни, к людям, к новым поискам. Первая веха на этом пути возрождения- встреча с Пьером и разговор с ним на пароме. В пылу спора с другом Болконский говорит несправедливые слова, высказывает крайние суждения. Но для себя он делает правильный вывод. Надо жить, надо любить, надо верить-эти слова Пьера глубоко запали в душу князя Андрея. Ожил его потухший взгляд и стал лучистым, детским, нежным. Именно сейчас в первый раз после Аустерлица он увидел то высокое, вечное небо, которое он видел, лежа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя по внешности та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь. Первое, что он сделал для людей,- преобразования в деревне, облегчившие участь его крестьян. . Это был один из первых примеров в России,- говорит Толстой.
Разговор с Пьером, а затем встреча с Наташей, лунная весенняя ночь в Отрадном, вызвавшая неожиданную путаницу молодых мыслей и надежд,- все это подготовило окончательное возвращение Андрея к жизни. Встреча со старым дубом помогла ему осмыслить свое нынешнее душевное состояние.
Писатель говорит о природе, одухотворяя ее, наделяя человеческими чертами. Глядя на дуб, князь Андрей видит не ветви, не кору, не наросты на ней, а руки и пальцы, старые болячки. При первой встрече дуб представляется ему живым существом, старым, сердитым и презрительным уродом, который наделен способностью думать, упорствовать, хмуриться и презирать веселую семью улыбающихся берез. Князь Андрей приписывает дубу свои мысли и чувства и, думая о нем, употребляет местоимения мы, наша.
Жизненные силы, которые возродили дуб, проснулись и в душе Болконского. Он остро ощущает радость бытия, видит возможность приносить пользу людям, возможность счастья и любви. И он решает: . надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь. чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!
Снова возникают честолюбивые мечты. Князь Андрей намерен принять участие в преобразованиях, которые в то время замышлялись в высших сферах. Но участие в комиссии Сперанского по составлению законов приводит к новым разочарованиям. Вспоминая своих мужиков, их нужды и заботы, князь Андрей признает работу комиссии праздной, далекой от насущных интересов народа.
Разочаровался князь Андрей и в самом Сперанском. Страстное желание найти в другом живой идеал того совершенства, к которому он стремился, привлекло его к этому деятелю, но потом он увидел, что тот вовсе не соответствует его идеалу.
Попять это несоответствие помогла Андрею любовь к Наташе. Именно благодаря естественности, простоте очаровавшей его девушки Болконский как бы вдруг обнаружил фальшь и неестественность Сперанского и всей той бюрократической среды, душою которой тот был. Теперь перед князем Андреем открылась жизнь, вся жизнь со всеми ее радостями. Ему кажется, что в любви он нашел подлинное счастье.
Но испытания Болконского не кончились. Счастье оказалось кратковременным, и, чем светлее оно было, тем трагичнее ощущает он разрыв с Наташей. Ему кажется теперь, как будто тот бесконечный, удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором
Разочарование в масон- стве неизбежно должно бы- ло наступить. Республикан- ские идеи Пьера не разде- лялись его братьями по ордену. Многие из них всту- пали в масонские ложи тальке ради сближения с влиятельными людьми.
Карьеризм, ханжество, лицемерие, свойственные высшему свету, проникли и в среду вольных каменщиков, как называли себя масоны. Не удивительно, что попытки Безухова привлечь братьев к более активному вмешательству в жизнь, к бескорыстной помощи страдающему человечеству привели его к разрыву с масонами.
Немеркнущим светом озарила жизнь Пьера поэтическая любовь к Наташе. Толстой показывает пробуждение этого чувства, сначала незаметного для самого Пьера, но постепенно сильнее и сильнее охватывавшего все его существо. Нежная, бережная любовь, дружеское участие и молчаливое преклонение перед любимой девушкой - эти чувства возвышали Пьера над окружающими, казались ему самому столь же чистыми и величественно прекрасными, как звездное небо с яркой кометой, далекое от шумных и грязных улиц города.
Связанный узами брака с ненавистной Элен, Пьер понимает, что ему лучше не встречаться с Наташей. В жизни его наступает мрачная полоса разочарования в личном счастье, в общественных идеалах. Пьер перестает мечтать о республике в России, об освобождении крестьян и ведет образ жизни, типичный для отставного камергера, каких немало было в среде московского дворянства. Но его жизнь казалась лишь со стороны покойной и бесцельной. Внутренняя, незаметная работа продолжалась и в этот период. К чему? Зачем? Что такое творится на свете? - эти вопросы не переставали тревожить Безухова. Он стремится распутать запутанный, страшный узел жизни. Эта непрекращающаяся внутренняя работа подготовила его духовное возрождение в дни Отечественной войны 1812 года.
Огромное значение для Пьера имело непосредственное соприкосновение с народом и на Бородинском поле, и после битвы, и в занятой неприятелем Москве, и в плену. Он понял ту скрытую теплоту патриотизма, которая была в нем и в каждом солдате, которая роднила его с простыми русскими людьми. Солдатом быть, просто солдатом. Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими- такое желание овладело Пьером после Бородинского боя.
Эпохой в жизни Безухова стал месяц, проведенный в плену. Духовные и физические страдания научили его ценить жизнь, ее малейшие радости, любить людей. Этому научил его и солдатик Апшерон-ского полка Платон Каратаев, сближением с которым Пьер особенно дорожил. В плену Безухов приходит к убеждению: Человек сотворен для счастья.
Но именно потому, что Пьер это понял, он не может равнодушно видеть страдания других людей, проявление общественного зла. А зло на каждом шагу бросается в глаза. В судах воровство, в армии одна палка, шагистика , поселения; мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно - то губят- вот краткая, но весьма выразительная оценка российских порядков, которую дает Безухов. В эпилоге романа мы видим Пьера, напряженно думающего, стремящегося к защите добра и правды. Пьер приходит в тайное политическое общество, становится на путь борьбы против самодержавия и крепостничества. Этот путь рисуется ему еще неясно, но мы знаем, что Пьер, по замыслу Толстого, должен был принять участие в восстании декабристов и поплатиться за это долгими годами сибирской каторги и ссылки.
«Ох! спустил бы опять молодца нашего Бонапаг'та! Он бы всю дуг'ь повыбил».
Почему они так говорят? Чем они недовольны? И что думает обо всем этом ученый, умный
и добрый дядя Пьер?
Пьер считает, «что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил.
Что ж честные люди могут сделать? — слегка нахмурившись, сказал Николай. —
Что же можно сделать?»
Николай, как и всякий ограниченный человек, считает, что подростку — для его же блага —
лучше не слышать, о чем спорят взрослые.
Отчего? Оставь его, — сказал Пьер.
И, оставшись с большими в кабинете, Николенька услышал: «. все гибнет. В судах воровство, в
армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ; просвещение душат. Что молодо, честно, то
Пьер говорит это в декабре 1820 года, когда изнуренный лихорадкой Александр Пушкин томит-
ся в кишиневской ссылке, когда Павел Пестель по ночам думает над рукописью «Русской правды»,
по всей армии слышатся разговоры о восстании, всколыхнувшем Семеновский полк, а стихотворение
Рылеева «К временщику» уже пошло по рукам, и люди учатся думать, читая эту злую сатиру на
В Петербурге честные люди собираются, чтобы содействовать просвещению и благотворитель-
ности. Пьер считает: «Цель прекрасная и все, но в настоящих обстоятельствах надо другое. пусть
будет не одна добродетель, но независимость и деятельность».
Пьер ненавидит Аракчеева, но, кроме того, он боится народного бунта. «Мы только для того,
чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в
Мальчик Николенька не думает ни об Аракчееве, ни о Пугачеве; его волнует справедливость.
«Бледный, с блестящими, лучистыми глазами», он напоминает о себе:
«— Дядя Пьер. вы. нет. Ежели бы папа был жив. он бы согласен был с вами? — спро-
Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли
должна была происходить в этом мальчике во все время его разговора, и, вспомнив все, что он го-
ворил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.
— Я думаю, что да, — сказал он неохотно и вышел из кабинета».
Николай твердо знает, что Николеньке «вовсе тут и быть не следовало». Пьеру тоже «стало
досадно, что мальчик слышал его», — но в нем живет то редкое, естественное чувство правдивости
по отношению к детям, которое рождает настоящих воспитателей. Пусть неохотно, но он отвечает
И вот Николенька видит сон, которым кончается сюжетная часть романа Толстого (в эпилоге
есть еще вторая часть, философская, но последнее событие в книге — сон Николеньки). «Они с дядей
радостно все ближе; и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться;
стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе. »
Потом Пьер превратился в отца; отец ласкал и жалел Николеньку, но «дядя Николай Ильич все
ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку, и он проснулся».
Этот сон можно толковать по-разному; конечно, он навеян сегодняшними разговорами, но в
нем, кроме того, — вся душевная работа замкнутого мальчика за долгие месяцы.
Что будет с этим мальчиком через пять лет — в декаб ре 1825 года? Как может сложиться
его судьба, если он честен и умеет думать, если он верит Пьеру и мечтает о славе, как его дед —
под Измаилом, отец — под Аустерлицем? Куда может привести судьба чистого, самоотверженно-
го мальчика 1806 года рождения, наследника лучших людей русской интеллигенции?
Его отец и дед живут в нем; и он, сам того не зная, жи вет их духом. «А отец? Отец! Отец! Да,
я сделаю то, чем бы даже он был доволен. » (Курсив Толстого.)
Так думает князь Николай Андреевич Болконский — в Сибири он перестанет быть князем, по-
тому что царь лишит декабристов дворянства, но везде он останется Болконским, и князь Андрей
пройдет с ним и с Пьером Сенатскую площадь, тюрьму и каторгу — почетный путь русского дворя-
3. И СНОВА.
Старинная пословица говорит: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Это будет уже дру-
гая река — она течет, движется, меняются ее берега; и вода, и небо над ней каждую секунду стано-
вятся иными. Человек тоже меняется — каждое прожитое мгновенье рождает в нем новый опыт, но -
Автор статьи

Читайте также: